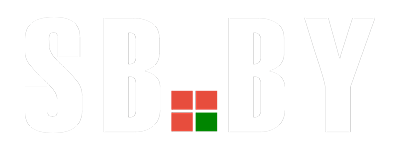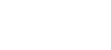ХХ век, вскипающий кровавыми бурями в разных уголках планеты, одних возносил, других растаптывал безжалостно и быстро: войны, революции и террор, голод и эпидемии. Человечество пыталось нащупать путь, найти цель и смысл существования в условиях, когда отдельному человеку не хватало элементарного: крыши над головой, куска хлеба для детей, безопасности и самой возможности жить, а не умирать. В такую эпоху появился на свет Николай Карлович Романовский — сын панских батраков, потомок слуцких ткачей, умевших цветной нитью и золотом создавать дивные узоры, будущий классик белорусской литературы, принявший имя Кузьма Чорный в честь деревенского прозвища своего деда.
Он родился 24 июня 1900 года на Слутчине, в маёнтке под названием Борки, где отец семейства батрачил на помещика Войниловича. В батраки Карл Романовский и его жена Гликерия пошли не от хорошей жизни, а, как и многие безземельные крестьяне, от невозможности прокормиться иначе. «Нi каня, нi каровы ў нас не было — не было за што купiць i на чым трымаць. Бацька ведаў плотнiцкае рамясло i пачаў хадзiць на падзённую працу з сякераю…» Начальной грамоте старшего сына как могла выучила мать. Но отец страстно мечтал вывести своих потомков в люди, дать им образование. Потому через несколько лет семья перебралась в Тимковичи, где было народное училище. Его и окончил будущий писатель, затем пару лет помогал отцу, работая на хозяйстве. Он пел, самоучкой освоил несколько музыкальных инструментов, рисовал, в свободные часы не расставался с книгой… В 1916‑м Николай Романовский поступил в Несвижскую учительскую семинарию — учебное заведение, в котором не брали платы с родителей учеников, а лучшим в учебе даже давали стипендию. Именно в эти годы он пробует перо, делая первые робкие попытки что-то сочинить. Правда, завершить обучение не удалось: поляки, оккупировавшие эти территории в 1919 году, тут же закрыли учебное заведение.
В 1923‑м жажда знаний привела молодого человека в Минск, в университет на литературное отделение педагогического факультета, и тогда же на страницах газеты «Савецкая Беларусь» появились первые рассказы. Он подписывался инициалами К. Ч., М. Р., разными псевдонимами — Iгнат Булава з-пад Турава, Сусед Вясёлы, Максiм Алешнiк, Раман Талапiла, Арцём Чамярыца, Сымон Чарпакевiч… Потом зазвучало и имя — Кузьма Чорный.
Как и многие начинающие авторы, он входит в литературное объединение «Маладняк» и пишет лирические стихи. Однако быстро полностью переходит на прозу: таково свойство его дыхания, желание глубоко вникать в перипетии жизни человеческой. «Праблема жывога чалавека, толькi жывога чалавека захапляе мяне…» — признавался писатель.Литературная работа идет споро, молодой прозаик выпускает одну книгу за другой: «Апавяданнi» (1925), «Срэбра жыцця» (1925), «Хвоi гавораць» (1926), «Пачуццi» (1926), «Вераснёвыя ночы» (1929), «Брыгадзiравы апавяданнi» (1932). Его герои — такие же крестьяне, как и он сам. Но, не замыкаясь на чисто сюжетной стороне, Чорный осмысляет их душевные порывы, их жизненную философию, время, в котором им выпало жить: на сломе эпох, в годину перемен, когда менялось все — и земля, и уклад, и вера. Учителем в литературе для молодого писателя стал Змитрок Бядуля, особо выделявший Чорного и Максима Горецкого: «Гэтыя два паспелi ўжо выявiць свой уласны твар, а не адбiтак кагосьцi…» В 1926 году Чорный встает во главе нового литературного объединения под названием «Узвышша», в которое вошли Кондрат Крапива, Адам Бабареко, Петр Глебка, Владимир Дубовка, Змитрок Бядуля и другие авторы. Вместе они создают одноименный литературный журнал, который просуществует несколько лет.

К тому времени белорусскую поэзию уже хорошо знали и за пределами молодой советской республики — в ней хватало звучных, ясных голосов. Прозе же только предстояло завоевать свое место. И Чорный стал одним из первых белорусских романистов: в конце 1920‑х им написаны «Сястра» и «Зямля», в 1931‑м выходит еще один роман «Бацькаўшчына», затем «Трэцяе пакаленне», «Трыццаць год», повесть «Люба Лук’янская»... Писателя называли и белорусским Достоевским, и белорусским Гамсуном, сравнивали и с Бальзаком, и с Фолкнером за удивительную психологическую точность его прозы. А шла она из глубин понимания своих героев, из чувства родства, сопричастности, из любви к родной земле.
Символом Родины для Кузьмы Чорного были Тимковичи, в которых он вырос. Сюда приезжал всю жизнь: оторваться от корней, лишиться сокровенного места, где прошло детство, где все родное, для него было немыслимо. В 1944‑м в своем дневнике писал, как ждет освобождения дорогого кусочка земли от фашистских захватчиков:
«Родныя мае мясцiны. Як мая душа рвецца туды! Яна заўсёды там. Там жывуць усе мае персанажы. Усе дарогi, пейзажы, дрэвы, хаты, чалавечыя натуры, пра якiя я калi-небудзь пiсаў. Гэта ўсё адтуль, сапраўднае. Пiшучы пра Скiп’ёўскае Пераброддзе, я думаю пра Скiп’ёва каля Цiмкавiч, памiж лясамi Скiп’ёўшчынай i Лiхадзёўшчынай, мiлае малое Селiшча, хараством якога заўсёды захаплялася мая мацi нябожчыца…»В октябре 1938‑го Чорного арестовали по надуманному обвинению в шпионаже. Его ждали одиночная камера, пытки и требования оговорить своих товарищей по цеху. Восемь месяцев в тюрьме НКВД, из которой его вызволил Пантелеймон Пономаренко, только назначенный первым секретарем ЦК КП(б) Белоруссии. Вступились за младшего коллегу Змитрок Бядуля и Якуб Колас, и в 1939‑м писателя выпустили на свободу.
Здоровье его после перенесенного было подорвано навсегда. Однако писатель работал как одержимый. И кроме литературной работы, участвовал в создании Союза писателей республики, занимался с молодыми авторами… Увы, практически все сочиненное в предвоенные годы погибло: когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз, дом, в котором соседствовали семьи Чорного и Кондрата Крапивы, разбомбили одним из первых. Дочь писателя Рогнеда Романовская вспоминала: «В соседний подъезд попала бомба. Мужчины бросились разбирать завалы. Папа с соседом нагрузили носилки битым кирпичом, только отошли, тут перекрытия и обрушились…» Они оставили город и ушли в зареве пожаров пешком по Логойскому тракту. С толпой беженцев добрались до железной дороги. Повезло: втиснулись в один из последних поездов, увозивших людей в эвакуацию на восток.
Семья Кузьмы Чорного осталась в Уральске, а самого его быстро отозвали в Москву: он нужен был как публицист, работал в газете «Раздавим фашистскую гадину», где собрался мощный творческий состав: Янка Купала, Якуб Колас, Кондрат Крапива, Петрусь Бровка, Петр Глебка, Василь Витка, Анатолий Астрейко, Максим Лужанин, художниками были Заир Азгур, Иван Ахремчик, Евгений Зайцев. Жилось «раздавиловцам» трудно, с тем же Виткой Чорный делил не только кусок хлеба, но подчас и жесткую койку, в которую приходилось втискиваться вдвоем. Десятками сочиняя публицистические статьи и фельетоны, писатель страдал от невозможности полностью отдаться литературному труду. И все-таки целых три романа он успел написать в годы войны: «Вялiкi дзень», «Пошукi будучынi» и «Млечны шлях».
Когда в 1944‑м пришла весть об освобождении Минска, Чорный с нетерпением ждал возможности вернуться домой: «…жыць не ў Беларусi больш не магу. А дзе жыць у Мiнску? I як там жыць на попелiшчы? Што там есцi?..» Он был болен, и болен тяжело, последствия инсульта привели к тому, что писателю пришлось осваивать трафарет и с его помощью по буковке закрашивать строки, сочиняя новые романы, — именно так писались «Пошукi будучынi». Сам он считал:
«Самае важнае — маё пяро i раманы. Пакуль жыву — дзяўбу пяром камень. Пяро трывалае».Кузьма Чорный успел увидеть родную землю освобожденной от фашизма, порадоваться тому, что сестры, пережившие оккупацию, уцелели. Однако лишения военных лет окончательно погубили его и без того подорванное здоровье. В ноябре 1944 года писателя не стало.
«Зробленае К. Чорным у часе вайны — сапраўдны подзвiг пiсьменнiка-салдата, — писал Алесь Адамович. — Столькi напiсаць i так напiсаць, будучы смяртэльна хворым ужо з 1942 г., амаль страцiўшы зрок, — iнакш чым подзвiгам салдата, што да апошняй хвiлiны не пакiнуў свой акоп, гэта назваць немагчыма!»Память о писателе бережно хранит белорусская земля: именем Кузьмы Чорного названы улицы, в его родных Тимковичах в 1962 году построен литературный музей, носящий имя писателя. А нам остается его вечный завет: «Поўнiцца шчасцем чалавек са справядлiвым сэрцам i замiлаванасцю да роднай зямлi i роднага неба…»
Из автобиографии

Кузьма Чорный писал: «Я ўспамiнаю жыццё сваiх бацькоў i сваё маленства. Гэта быў жудасны час, калi кавалак хлеба i палатняная рубашка — адна на год, здавалiся шчасцем. Так жылi ўсе тыя людзi, сярод якiх я вырас i выгадаваўся. Так жыў народ. Бацькi мае цьмяна марылi аб нейкай невядомай iм лепшай долi для сваiх дзяцей. Я стаў пiсьменнiкам. Больш таго, я пiшу на мове тых простых людзей, сярод якiх i вырас. Гэтыя людзi сталi шчаслiвымi на зямлi, iх мова стала дзяржаўнай мовай. Я пiшу аб гэтых людзях у сваiх кнiгах».
Побеждает человечность

Писатель и эссеист Михась Стрельцов говорил о Кузьме Чорном: «Ён ведаў, што ў лiтаратуры перамагае толькi чалавечае i чалавечнае, а фальш, пустазвонства, бяздумная данiна чарговай модзе, колькi б яны нi прэтэндавалi на жыццё ў слове, урэшце будуць названы сваiмi iмёнамi».